 Маринус ван Реймерсвале (ок. 1490 — ок. 1546). Притча о неверном управителе. Музей истории искусств. Вена (Австрия)
Маринус ван Реймерсвале (ок. 1490 — ок. 1546). Притча о неверном управителе. Музей истории искусств. Вена (Австрия)
Притча о неверном управителе — одна из самых странных историй, которые рассказал Иисус. Попробуем разобраться в том, как ее толковали христианские комментаторы.
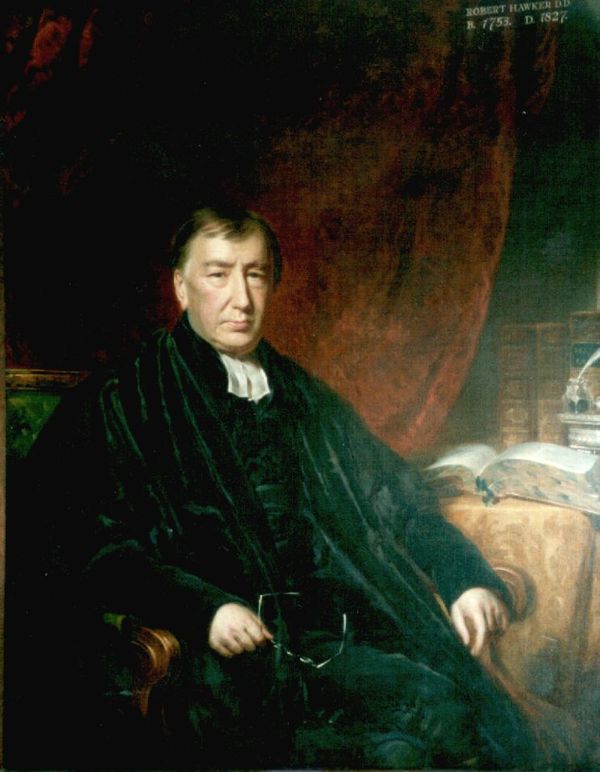 Неизв. автор. Портрет Роберта Хокера
Неизв. автор. Портрет Роберта Хокера
Странность притчи бросалась в глаза и порождала недоумение; чтобы частично его снять, епископ Кирилл Александрийский (375/380– 444) указывал, что не стоит пытаться понять притчу, отдельно анализируя ее части, — лучше взять историю и мораль целиком. Другие комментаторы обращают внимание на то, где в Евангелии находится притча. Переводчик Библии Иероним Стридонский (ок. 347– 420) и историк Беда Достопочтенный (672/673– 735) отмечали, что она помещена после притч о потерянной овце и о десяти драхмах — то есть эта притча идет в ряду других, иллюстрирующих необходимость милосердия.
«…один человек был богат и имел управителя» (Лк 16:1). Управитель — по-гречески oikonomos, по-латински — villicus. Иероним Стридонский отмечал, что главный герой притчи управлял и деньгами, и землями своего господина1. Очевидно, что управитель не был рабом, поскольку после увольнения (а раба нельзя уволить) собирается жить не у своего господина (см.: Лк 16:3– 4). Первый и важный вопрос притчи: кого же имеет в виду Иисус, говоря об управителе и о его господине? Чаще всего встречается мнение, что господин — это Бог, а мы — управители, делающие то, что нам поручено. Однако не все были согласны с такой трактовкой. Популярный англиканский проповедник XIX века Роберт Хокер считал, что и богач, и управитель — люди мирские, действующие под влиянием мирской логики, и приведены Христом в пример для яркого контраста. Самую необычную трактовку мы находим у христианского писателя Феофила Антиохийского (ум. 183): он считал, что управитель — это гонитель христиан Савл, которого Бог резко вырвал из привычного образа действий и призвал к ответу за содеянное.
«…на которого донесено было ему, что расточает имение его». В оригинале употреблен глагол diaballo, от которого происходит слово diabalos, дьявол, что дословно значит «обвинитель», «прокурор». Авторитетный баптистский толкователь Библии XVIII века Джон Гилл видит в обвинениях метафорический смысл: управитель, то есть христианский служитель, делает Божье дело небрежно. Вызов к господину Гилл понимает как призыв Бога к нерадивым служителям через пророков, Христа и Его апостолов.
«И, призвав его, сказал ему: что это я слышу о тебе? дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять» (Лк 16:2). Лютеранский библеист и богослов XVIII века Ио ганн Бенгель отмечает: вопрос хозяина показывает, что он неприятно удивлен, а это означает, что Бог, которого и символизирует хозяин, доверяет человеку и верит в лучшее в нем. Великий проповедник Чарльз Сперджен отмечал, что требование хозяина, чтобы управляющий дал отчет в том, как он управлял имуществом, означает, что Бог с каждого служителя спросит лично, как тот выполнял свои обязанности. В связи с этим Сперджен рекомендует постоянно проводить ревизию своего духовного состояния, чтобы в любой момент можно было дать отчет Всевышнему.
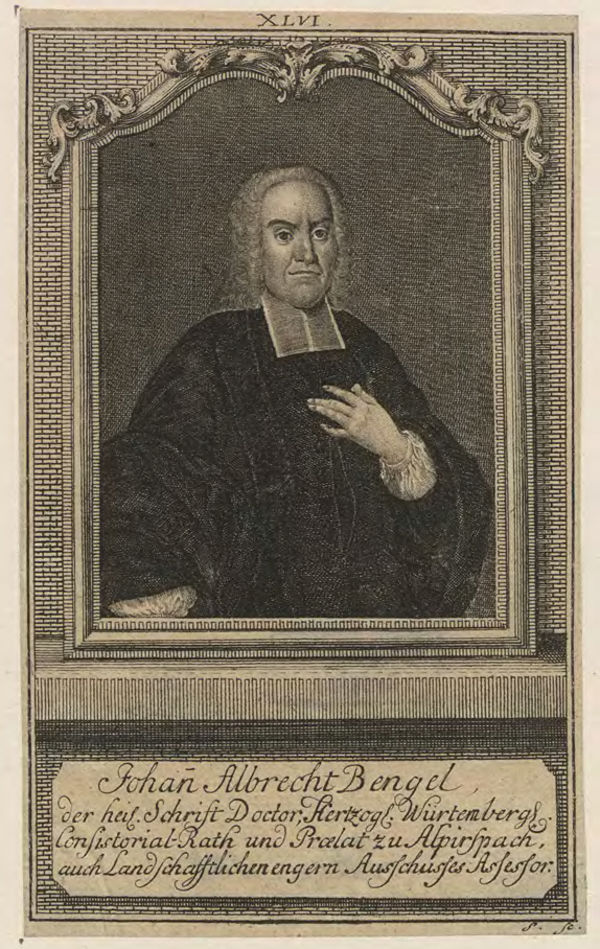 Джоанна Доротея Филипен (1729–1791). Портрет Иоганна Альбрехта Бенгеля. XVIII век
Джоанна Доротея Филипен (1729–1791). Портрет Иоганна Альбрехта Бенгеля. XVIII век
«Тогда управитель сказал сам в себе: что мне делать? господин мой отнимает у меня управление домом; копать не могу, просить стыжусь» (Лк 16:3). Управитель явно немолодой человек (молодым не доверили бы такое ответственное дело), ему копать физически тяжело; кроме того, копать обычно заставляли либо рабов, либо тех, кто никаким ремеслом не владел, — очевидно, что для управителя это сильное унижение. Еще большее унижение — просить милостыню, что в еврейской культуре считалось делом крайне постыдным. Епископ Феофил Антиохийский понимает эту ситуацию аллегорически, продолжая аналогию с Савлом, который пытается обрести почву под ногами после явления ему Христа: «Копать не могу. Ибо я вижу, что все заповеди закона, оплодотворявшие землю, потеряли свою силу; и закон, и пророки покончились с Иоанном Крестителем. Просить стыжусь. Как мне, бывшему учителю иудеев, стать просить, как милостыни, учения спасения и веры у язычников и ученика Анании!»2. Джон Гилл считает, что опция «копать и просить» в духовном смысле была закрыта для единомышленников Савла — фарисеев: они не могли «копать» — поставить глубокое и прочное основание, каковым может быть только Христос, а просить что-либо не считали для себя возможным, полагая, что у них и так все есть. Автор большого библейского комментария начала XVIII века Мэтью Генри видел в этом рассуждении управителя важный вывод для христиан: никакой земной труд и усилия не могут обеспечить нам спасение.
Управителю приходит в голову идея: «И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: сколько ты должен господину моему? Он сказал: сто мер масла. И сказал ему: возьми твою расписку и садись скорее, напиши: пятьдесят. Потом другому сказал: а ты сколько должен? Он отвечал: сто мер пшеницы. И сказал ему: возьми твою расписку и напиши: восемьдесят» (Лк 16:5– 7). Сто мер, или батов, масла (оливкового) — это примерно 40 литров, долг был около 1 тысячи динариев; сто мер (коров) пшеницы — это около 200 литров, долг — около 2,5 тысячи динариев. И в том, и в другом случае — очень внушительные суммы. Есть версия, что управитель добавил к долгу должников лишнего для собственной корысти, пользуясь тем, что эти люди от него полностью зависели, либо тем, что они могли не разобраться в сложных расчетах. Убрав «наценку», управитель не грабит хозяина, а отказывается от суммы, на которую не имел права, и получает благодарность со стороны должников. Феофил Антиохийский продолжает аллегорическую линию: управитель- Савл получает прощение, став апостолом, возвестившим милость от лица своего Господина; должник, имеющий долг в 100 мер масла, — это язычники, нуждающиеся в милосердии Божьем (масло как символ милости), а имеющий долг в 100 мешков пшеницы — это евреи (пшеница как символ заповедей). Выдающийся христианский писатель Ориген указывает, что расписка с долгом — это свидетельство о наших грехах, которое уничтожается смертью Христа. Человеку, в отличие от героев притчи, не нужно пытаться что-то переписать, то есть оправдаться перед Богом. Блаженный Августин видит в действии управителя, который убрал в одном случае половину, а в другом — пятую часть, пример для христиан в благотворении: они должны вкладывать не положенную еще в Ветхом Завете десятину, а гораздо больше.
«И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил; ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде» (Лк 16:8). Одни толкователи считают, что господин похвалил управителя за то, что невольно восхитился ловкостью его махинаций, другие считают, что управитель поставил хозяина в безвыходное положение: если он отменит распоряжение управителя, то явно не будет выглядеть щедрым хозяином. Есть мнение, что похвалил управителя не его господин, а Сам Христос — но не за мошенничество, а за умение сделать правильный выбор. Известный проповедник XX века Антоний Сурожский указывает, что похвала господина за расточение его имущества связана с его милосердием: «…поскольку мы употребляем добро нашего Господина на дела милосердия, мы заслуживаем похвалы этого странного хозяина, потому что Он не похож на обычных хозяев, которые стремятся накопить, обладать, собрать добро себе»3.
 Бартоломе Роман (ок. 1587 —1647). Беда Достопочтенный. XVII век
Бартоломе Роман (ок. 1587 —1647). Беда Достопочтенный. XVII век
«Сынами света» называли себя члены аскетического еврейского сообщества — Кумранской общины; видимо, от них это наименование заимствовали и христиане (см.: Ин 12:36, 1 Фес 5:5). Комментаторы сходятся в том, что мысль Христа следующая: мирские люди гораздо лучше понимают, что нужно предпринять для своей выгоды, чем люди духовные — как быть частью Царства Небесного.
«И Я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители» (Лк 16:9). Комментаторы подчеркивают, что, поскольку никакие ресурсы нам не принадлежат, то правильное использование богатства — это поделиться им с другими. Пристрастное отношение к богатству делает его идолом — «маммоной», как сказано в оригинале. Семитское слово «маммона» происходит от корня ’mn, означающего крепость, надежность (из этого же корня слово «аминь»); мирской человек полагает свою опору именно в богатстве. Отмечается, что любое богатство, даже честно приобретенное, — «маммона неправедная». «Правда Божья» — это Божий порядок, в котором заключена подлинная надежность; «неправедность» — это все, прямо от Бога не исходящее, а потому и ненадежное; это, очевидно, характеристика земного богатства; «неправедная маммона» — это дословно «ненадежная опора»4. «Обнищание» означает период, когда богатство уже будет не важно, — это наша смерть и второе пришествие Христа, «небесные обители» — Царство Божье.
Приобретение друзей с помощью «маммоны неправедной» понимается по-разному. Одни считают, что это бедные люди, которые благодарно молятся за нас, другие — что это наши милостыни и молитвы в целом.
Главный вывод, который мы можем извлечь из анализа этой загадочной притчи: земные блага ненадежны, надежен только Бог и Его закон; Его закон сводится к тому, чтобы мы делились тем, что у нас есть, зная, что все это принадлежит Богу. Поступая так, мы получаем благословение.
1 Евангелие от Луки, глава 16: Иероним Стридонский. Электронный ресурс: https://ekzeget.ru/bible/evangelie-ot-luki/glava-16/tolkovatel-ieronim-stridonskij-blazennyj/ (дата обращения: 12 декабря 2024).
2 Евангелие от Луки, глава 16: Феофил Антиохийский. Электронный ресурс: https://ekzeget.ru/bible/evangelie-ot-luki/glava-16/tolkovatel-feofil-antiohijskij-svatitel/
3 Сурожский, А. Притча о неправедном управителе. Электронный ресурс: https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Surozhskij/pritcha-o-nepravednom-upravitele/
4 Евангелие от Луки, глава 16: Ианнуарий (Ивлиев). Электронный ресурс: https://ekzeget.ru/bible/evangelie-ot-luki/glava-16/tolkovatel-iannuarij-ivliev-arhimandrit/
Фото: wikipedia.org

